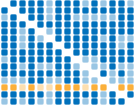...так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы, что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.
Гете. «Фауст»
Глава I
НИКОГДА НЕ РАЗДОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах,
появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был
маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на
хорошо выбритом лице его помешались сверхъестественных размеров очки в черной
роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной
на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в чертых
тапочках.
Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления
одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой
МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его
– поэт Иваи Николаевич Понырев, пишущий под псевдонином Бездомный.
Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро
раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».
Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только
у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось
ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда
солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо,
– никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.
– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.
– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.
– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.
– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.
– Что есть? – спросил Берлиоз.
– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.
– Ну, давайте, давайте, давайте!..
Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись,
литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом
к пруду и спиной к Бронной.
Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно
перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом
вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный,
но столь силный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без
оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел,
вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... сердце
шалит... я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»
И тут знойный воздух сгустился перед пим, и соткался из этого воздуха прозрачный
гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, кледчатый
кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок,
худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык.
Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может
быть»!
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли,
качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл,
увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и
тупая игла выкочила из сердца.
– Фу ты черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар
от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было, – он попытался усмехнуться,
но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали.
Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро:
«Ну-с, итак...» – повел речь, прерванную питьем абрикосовой.
Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор
заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту
поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, eю
редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо
своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму
приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал
поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку
поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ипвана Николаевича – изобразительная
ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался
писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя
и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное
не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого,
как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые
выдумки, самый обыкновенный миф.
Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал
в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского,
на блестяще образованного Иосифа Флавиа, никогда ни словом не упоминавших о
существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил
поэту, между прочим, и о том, что то место в пятнадцатой книге, в главе 44-й
знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть не что
иное, как позднейшая поддельная вставка.
Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно
слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и
лишь изредка икал, шепотом ругая абрискосовую воду.
– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берпиоз, – в которой, как правило,
непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего
нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не
было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор...
Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил
Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть
себе шею, лишь очень образованный человек,– поэт узнавал все больше и больше
интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба
и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного
грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.
И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том,
как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцлу, в аллее показался первый человек.
Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили
свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления.
Так в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел
золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного,
коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает,
что особых примет у человека не было.
Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.
Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького
и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у
него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме,
в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под
мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет
сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный,
левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.
Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился
на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.
«Немец»,– подумал Берлиоз.
«Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках».
А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем
заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.
Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное
и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз,
где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился,
руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.