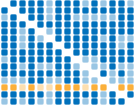Puskin, Alekszandr Szergejevics: The Daughter of the Commandant (Капитанская Дочка in English)
Капитанская Дочка (Russian)ГЛАВА I.
СЕРЖАНТ ГВАРДИИ. Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-маиором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревни, где и женился на девице Авдотьи Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости маиора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. "Слава богу" - ворчал он про себя - "кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги, и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!" Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel, не очень понимая значения этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; не редко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, - и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю: Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила, и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей, и пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно, и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать, и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей, и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чахарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то бывало по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак батюшка читал Придворный Календарь, изредко пожимая плечами и повторяя вполголоса: "Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!... Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы..." Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго. Вдруг он обратился к матушке: "Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?" - Да вот пошел семнадцатый годок, - отвечала матушка. - Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще... "Добро" - прервал батюшка, - "пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни". Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что по мнению моему было верьхом благополучия человеческого. Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги. "Не забудь, Андрей Петрович", - сказала матушка - "поклониться и от меня князю Б.; я-дескать надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями". - Что за вздор! - отвечал батюшка нахмурясь. - К какой стати стану я писать к князю Б.? "Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши". - Ну, а там что? "Да ведь начальник Петрушин - князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк". - Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда. Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол, и начал свое письмо. Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки, и подозвав меня, сказал: "Вот тебе письмо к Андрею Карловичу P., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством". Итак все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день по утру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чамодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: "Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье с нову, а честь с молоду". Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем, и отправился в дорогу, обливаясь слезами. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова, и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, невидимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчивал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали изо стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. "Это" - говорил он - "необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко - чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!" Я совершенно был убежден, и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам, и после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом - вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий, и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: "Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покаместь поедем к Аринушке". Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав изо стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир. Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. "Что это, сударь, с тобою сделалось?" - сказал он жалким голосом, "где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!" - Молчи, хрыч! - отвечал я ему, запинаясь; - ты верно пьян, пошел спать... и уложи меня. На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшедствия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. "Рано, Петр Андреич", - сказал он мне, качая головою - "рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасуё в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало к Антипьевне забежит: "Мадам, же ву при, водкю". Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!" Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: Поди вон, Савельич; я чаю не хочу. Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. "Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что негоден... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки Не прикажешь ли?" В это время мальчик вошел, и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки: "Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах. Готовый ко услугам Иван Зурин". Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный, и обратясь к Савельичу, который был и денег и белья и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. "Как! зачем?" - спросил изумленный Савельич. - Я их ему должен - отвечал я со всевозможной холодностию. - "Должен!" - возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление; - "да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам". Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и взглянув на него гордо, сказал: - Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать, и делать то что тебе приказывают. Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. - Что же ты стоишь! - закричал я сердито. Савельич заплакал. "Батюшка Петр Андреич", - произнес он дрожащим голосом - "не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко на крепко заказали не играть, окроме как в орехи..." - Полно врать, - прервал я строго, - подавай сюда деньги, или я тебя в зашеи прогоню. Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться. |
The Daughter of the Commandant (English)CHAPTER I.
SERGEANT OF THE GUARDS. My father, Andréj Petróvitch Grineff, after serving in his youth under Count Münich, had retired in 17--with the rank of senior major. Since that time he had always lived on his estate in the district of Simbirsk, where he married Avdotia, the eldest daughter of a poor gentleman in the neighbourhood. Of the nine children born of this union I alone survived; all my brothers and sisters died young. I had been enrolled as sergeant in the Séménofsky regiment by favour of the major of the Guard, Prince Banojik, our near relation. I was supposed to be away on leave till my education was finished. At that time we were brought up in another manner than is usual now. From five years old I was given over to the care of the huntsman, Savéliitch, who from his steadiness and sobriety was considered worthy of becoming my attendant. Thanks to his care, at twelve years old I could read and write, and was considered a good judge of the points of a greyhound. At this time, to complete my education, my father hired a Frenchman, M. Beaupré, who was imported from Moscow at the same time as the annual provision of wine and Provence oil. His arrival displeased Savéliitch very much. "It seems to me, thank heaven," murmured he, "the child was washed, combed, and fed. What was the good of spending money and hiring a 'moussié,' as if there were not enough servants in the house?" Beaupré, in his native country, had been a hairdresser, then a soldier in Prussia, and then had come to Russia to be "outchitel," without very well knowing the meaning of this word. He was a good creature, but wonderfully absent and hare-brained. His greatest weakness was a love of the fair sex. Neither, as he said himself, was he averse to the bottle, that is, as we say in Russia, that his passion was drink. But, as in our house the wine only appeared at table, and then only in liqueur glasses, and as on these occasions it somehow never came to the turn of the "outchitel" to be served at all, my Beaupré soon accustomed himself to the Russian brandy, and ended by even preferring it to all the wines of his native country as much better for the stomach. We became great friends, and though, according to the contract, he had engaged himself to teach me French, German, and all the sciences, he liked better learning of me to chatter Russian indifferently. Each of us busied himself with our own affairs; our friendship was firm, and I did not wish for a better mentor. But Fate soon parted us, and it was through an event which I am going to relate. The washerwoman, Polashka, a fat girl, pitted with small-pox, and the one-eyed cow-girl, Akoulka, came one fine day to my mother with such stories against the "moussié," that she, who did not at all like these kind of jokes, in her turn complained to my father, who, a man of hasty temperament, instantly sent for that rascal of a Frenchman. He was answered humbly that the "moussié" was giving me a lesson. My father ran to my room. Beaupré was sleeping on his bed the sleep of the just. As for me, I was absorbed in a deeply interesting occupation. A map had been procured for me from Moscow, which hung against the wall without ever being used, and which had been tempting me for a long time from the size and strength of its paper. I had at last resolved to make a kite of it, and, taking advantage of Beaupré's slumbers, I had set to work. My father came in just at the very moment when I was tying a tail to the Cape of Good Hope. At the sight of my geographical studies he boxed my ears sharply, sprang forward to Beaupré's bed, and, awaking him without any consideration, he began to assail him with reproaches. In his trouble and confusion Beaupré vainly strove to rise; the poor "outchitel" was dead drunk. My father pulled him up by the collar of his coat, kicked him out of the room, and dismissed him the same day, to the inexpressible joy of Savéliitch. Thus was my education finished. I lived like a stay-at-home son (nédoross'l), amusing myself by scaring the pigeons on the roofs, and playing leapfrog with the lads of the courtyard, till I was past the age of sixteen. But at this age my life underwent a great change. One autumn day, my mother was making honey jam in her parlour, while, licking my lips, I was watching the operations, and occasionally tasting the boiling liquid. My father, seated by the window, had just opened the Court Almanack, which he received every year. He was very fond of this book; he never read it except with great attention, and it had the power of upsetting his temper very much. My mother, who knew all his whims and habits by heart, generally tried to keep the unlucky book hidden, so that sometimes whole months passed without the Court Almanack falling beneath his eye. On the other hand, when he did chance to find it, he never left it for hours together. He was now reading it, frequently shrugging his shoulders, and muttering, half aloud-- "General! He was sergeant in my company. Knight of the Orders of Russia! Was it so long ago that we--" At last my father threw the Almanack away from him on the sofa, and remained deep in a brown study, which never betokened anything good. "Avdotia Vassiliéva," said he, sharply addressing my mother, "how old is Petróusha?" "His seventeenth year has just begun," replied my mother. "Petróusha was born the same year our Aunt Anastasia Garasimofna lost an eye, and that--" "All right," resumed my father; "it is time he should serve. 'Tis time he should cease running in and out of the maids' rooms and climbing into the dovecote." The thought of a coming separation made such an impression on my mother that she dropped her spoon into her saucepan, and her eyes filled with tears. As for me, it is difficult to express the joy which took possession of me. The idea of service was mingled in my mind with the liberty and pleasures offered by the town of Petersburg. I already saw myself officer of the Guard, which was, in my opinion, the height of human happiness. My father neither liked to change his plans, nor to defer the execution of them. The day of my departure was at once fixed. The evening before my father told me that he was going to give me a letter for my future superior officer, and bid me bring him pen and paper. "Don't forget, Andréj Petróvitch," said my mother, "to remember me to Prince Banojik; tell him I hope he will do all he can for my Petróusha." "What nonsense!" cried my father, frowning. "Why do you wish me to write to Prince Banojik?" "But you have just told us you are good enough to write to Petróusha's superior officer." "Well, what of that?" "But Prince Banojik is Petróusha's superior officer. You know very well he is on the roll of the Séménofsky regiment." "On the roll! What is it to me whether he be on the roll or no? Petróusha shall not go to Petersburg! What would he learn there? To spend money and commit follies. No, he shall serve with the army, he shall smell powder, he shall become a soldier and not an idler of the Guard, he shall wear out the straps of his knapsack. Where is his commission? Give it to me." My mother went to find my commission, which she kept in a box with my christening clothes, and gave it to my father with, a trembling hand. My father read it with attention, laid it before him on the table, and began his letter. Curiosity pricked me. "Where shall I be sent," thought I, "if not to Petersburg?" I never took my eyes off my father's pen as it travelled slowly over the paper. At last he finished his letter, put it with my commission into the same cover, took off his spectacles, called me, and said-- "This letter is addressed to Andréj Karlovitch R., my old friend and comrade. You are to go to Orenburg to serve under him." All my brilliant expectations and high hopes vanished. Instead of the gay and lively life of Petersburg, I was doomed to a dull life in a far and wild country. Military service, which a moment before I thought would be delightful, now seemed horrible to me. But there was nothing for it but resignation. On the morning of the following day a travelling kibitka stood before the hall door. There were packed in it a trunk and a box containing a tea service, and some napkins tied up full of rolls and little cakes, the last I should get of home pampering. My parents gave me their blessing, and my father said to me-- "Good-bye, Petr'; serve faithfully he to whom you have sworn fidelity; obey your superiors; do not seek for favours; do not struggle after active service, but do not refuse it either, and remember the proverb, 'Take care of your coat while it is new, and of your honour while it is young.'" My mother tearfully begged me not to neglect my health, and bade Savéliitch take great care of the darling. I was dressed in a short "touloup" of hareskin, and over it a thick pelisse of foxskin. I seated myself in the kibitka with Savéliitch, and started for my destination, crying bitterly. I arrived at Simbirsk during the night, where I was to stay twenty-four hours, that Savéliitch might do sundry commissions entrusted to him. I remained at an inn, while Savéliitch went out to get what he wanted. Tired of looking out at the windows upon a dirty lane, I began wandering about the rooms of the inn. I went into the billiard room. I found there a tall gentleman, about forty years of age, with long, black moustachios, in a dressing-gown, a cue in his hand, and a pipe in his mouth. He was playing with the marker, who was to have a glass of brandy if he won, and, if he lost, was to crawl under the table on all fours. I stayed to watch them; the longer their games lasted, the more frequent became the all-fours performance, till at last the marker remained entirely under the table. The gentleman addressed to him some strong remarks, as a funeral sermon, and proposed that I should play a game with him. I replied that I did not know how to play billiards. Probably it seemed to him very odd. He looked at me with a sort of pity. Nevertheless, he continued talking to me. I learnt that his name was Iván Ivánovitch Zourine, that he commanded a troop in the ----th Hussars, that he was recruiting just now at Simbirsk, and that he had established himself at the same inn as myself. Zourine asked me to lunch with him, soldier fashion, and, as we say, on what Heaven provides. I accepted with pleasure; we sat down to table; Zourine drank a great deal, and pressed me to drink, telling me I must get accustomed to the service. He told good stories, which made me roar with laughter, and we got up from table the best of friends. Then he proposed to teach me billiards. "It is," said he, "a necessity for soldiers like us. Suppose, for instance, you come to a little town; what are you to do? One cannot always find a Jew to afford one sport. In short, you must go to the inn and play billiards, and to play you must know how to play." These reasons completely convinced me, and with great ardour I began taking my lesson. Zourine encouraged me loudly; he was surprised at my rapid progress, and after a few lessons he proposed that we should play for money, were it only for a "groch" (two kopeks), not for the profit, but that we might not play for nothing, which, according to him, was a very bad habit. I agreed to this, and Zourine called for punch; then he advised me to taste it, always repeating that I must get accustomed to the service. "And what," said he, "would the service be without punch?" I followed his advice. We continued playing, and the more I sipped my glass, the bolder I became. My balls flew beyond the cushions. I got angry; I was impertinent to the marker who scored for us. I raised the stake; in short, I behaved like a little boy just set free from school. Thus the time passed very quickly. At last Zourine glanced at the clock, put down his cue, and told me I had lost a hundred roubles. This disconcerted me very much; my money was in the hands of Savéliitch. I was beginning to mumble excuses, when Zourine said-- "But don't trouble yourself; I can wait, and now let us go to Arinúshka's." What could you expect? I finished my day as foolishly as I had begun it. We supped with this Arinúshka. Zourine always filled up my glass, repeating that I must get accustomed to the service. Upon leaving the table I could scarcely stand. At midnight Zourine took me back to the inn. Savéliitch came to meet us at the door. "What has befallen you?" he said to me in a melancholy voice, when he saw the undoubted signs of my zeal for the service. "Where did you thus swill yourself? Oh! good heavens! such a misfortune never happened before." "Hold your tongue, old owl," I replied, stammering; "I am sure you are drunk. Go to bed, ... but first help me to bed." The next day I awoke with a bad headache. I only remembered confusedly the occurrences of the past evening. My meditations were broken by Savéliitch, who came into my room with a cup of tea. "You begin early making free, Petr' Andréjïtch," he said to me, shaking his head. "Well, where do you get it from? It seems to me that neither your father nor your grandfather were drunkards. We needn't talk of your mother; she has never touched a drop of anything since she was born, except 'kvass.' So whose fault is it? Whose but the confounded 'moussié;' he taught you fine things, that son of a dog, and well worth the trouble of taking a Pagan for your servant, as if our master had not had enough servants of his own!" I was ashamed. I turned round and said to him-- "Go away, Savéliitch; I don't want any tea." But it was impossible to quiet Savéliitch when once he had begun to sermonize. "Do you see now, Petr' Andréjïtch," said he, "what it is to commit follies? You have a headache; you won't take anything. A man who gets drunk is good for nothing. Do take a little pickled cucumber with honey or half a glass of brandy to sober you. What do you think?" At this moment a little boy came in, who brought me a note from Zourine. I unfolded it and read as follows:-- "DEAR PETR' ANDRÉJÏTCH, "Oblige me by sending by bearer the hundred roubles you lost to me yesterday. I want money dreadfully. "Your devoted "IVÁN ZOURINE." There was nothing for it. I assumed a look of indifference, and, addressing myself to Savéliitch, I bid him hand over a hundred roubles to the little boy. "What--why?" he asked me in great surprise. "I owe them to him," I answered as coldly as possible. "You owe them to him!" retorted Savéliitch, whose surprise became greater. "When had you the time to run up such a debt? It is impossible. Do what you please, excellency, but I will not give this money." I then considered that, if in this decisive moment I did not oblige this obstinate old man to obey me, it would be difficult for me in future to free myself from his tutelage. Glancing at him haughtily, I said to him-- "I am your master; you are my servant. The money is mine; I lost it because I chose to lose it. I advise you not to be headstrong, and to obey your orders." My words made such an impression on Savéliitch that he clasped his hands and remained dumb and motionless. "What are you standing there for like a stock?" I exclaimed, angrily. Savéliitch began to weep. "Oh! my father, Petr' Andréjïtch," sobbed he, in a trembling voice; "do not make me die of sorrow. Oh! my light, hearken to me who am old; write to this robber that you were only joking, that we never had so much money. A hundred roubles! Good heavens! Tell him your parents have strictly forbidden you to play for anything but nuts." "Will you hold your tongue?" said I, hastily, interrupting him. "Hand over the money, or I will kick you out of the place." Savéliitch looked at me with a deep expression of sorrow, and went to fetch my money. I was sorry for the poor old man, but I wished to assert myself, and prove that I was not a child. Zourine got his hundred roubles. Savéliitch was in haste to get me away from this unlucky inn; he came in telling me the horses were harnessed. I left Simbirsk with an uneasy conscience, and with some silent remorse, without taking leave of my instructor, whom I little thought I should ever see again. |